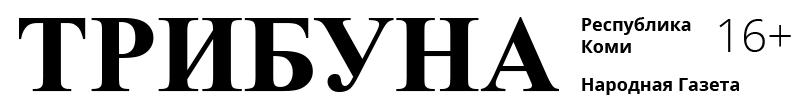За пределами узкого круга знатоков это имя, к сожалению, мало известно. Между тем Николай Пунин – одна из ключевых фигур русского искусства начала ХХ века.
Любители поэзии, пожалуй, вспомнят его как третьего мужа Ахматовой, но это несправедливо по отношению к человеку, судьба которого не менее интересна и значима, чем жизнь «царицы серебряного века». Сегодня уместно будет напомнить о нем еще и в связи с фестивалем «Кандинский», который проходит в Коми.
Напомним, художник Василий Кандинский был в Коми несколько дней проездом, будучи еще никому не известным студентом. «Пионер абстрактного искусства» состоялся за границей России и умер во Франции в 1944 году. Пунин попал в Коми АССР в 1949-м, как чуждый советской власти профессор, вина которого состояла лишь в том, что он слишком ревностно защищал современное искусство. Он умер в инвалидном отделении Минлага под Интой. Долгие годы над его могилой был лишь деревянный колышек с номером Х-11.

Комиссар Эрмитажа
В 1918 году нарком просвещения Анатолий Луначарский назначил 30-летнего Пунина главой Петроградского комитета по образованию, а также народным комиссаром Русского музея и Эрмитажа. Он стал формировать коллекции новейшего искусства, поддерживая многие новаторские движения. Разработал лекционные курсы об истории и теории западной живописи, рассказывал слушателям о Ван Гоге, Гогене, Сезанне, Матиссе. В круг его личных друзей входили художники Казимир Малевич, Владимир Татлин, Лев Бруни, Николай Тырса, поэт Владимир Маяковский и его странная «семья» – Осип и Лиля Брик.
Конечно, знал он Николая Гумилева и молодую его жену Анну Ахматову. О первой встрече с Анной Пунин оставил в дневнике такую запись: «Сегодня возвращался из Петрограда с А. Ахматовой. В черном котиковом пальто с меховым воротником и манжетами, в черной бархатной шляпе – она странна и стройна, худая, бледная, бессмертная и мистическая…».
В 1921 году Гумилев и Пунин будут арестованы по сфабрикованному делу некой «Петроградской боевой организации В. Таганцева». Гумилев и более сотни представителей питерской интеллигенции были расстреляны. Пунина эта участь миновала – помогло заступничество Луначарского. После этих событий, по словам ученого, его «роман с революцией» закончился.

Две Анны на шее
Осенью 1922 года Пунин и Ахматова начали встречаться. Сначала тайно, потому что Николай Николаевич был женат. Вместе с супругой Анной Аренс и годовалой дочкой Ириной он жил в так называемом Фонтанном доме, некогда принадлежавшем графу Шереметьеву. Ахматова приходила в Фонтанный дом в гости. В то время у нее не было своего жилья, и Пунин позвал ее под свою крышу. Спустя несколько месяцев он признался жене о любви к другой Анне. «Трудно мне Вам рассказать, до какой степени мне дорог и мил этот человек… Но с ней трудно, и нужно иметь особые силы, чтобы сохранить отношения. Может быть, моя дружба с ней и гибельна для меня, но я предпочитаю гибель страху ее потерять или скуке ее не иметь».
Брак Ахматовой и Пунина не был зарегистрирован. Более того, не имея возможности жить отдельно, обе Анны обитали в одной квартире. Причем законная супруга не только терпела близкие отношения мужа и поэтессы, но и обеспечивала быт этой «общей семьи», поскольку только она одна имела постоянную работу. Роман Ахматовой и Пунина был тяжелым, мучительным, но длился почти 16 лет.
«От тебя я сердце скрыла, словно бросила в Неву… Прирученной и бескрылой я в дому твоем живу», – писала она о жизни в Фонтанном доме. За время, что Ахматова прожила там, она почти не писала стихов.
Второй арест
Шло время. Петроград переименовали в Ленинград. Советский режим закручивал гайки, для инакомыслящих настали совсем уж мрачные времена. Дирекция Русского музея заставила Пунина перекроить экспозицию русского искусства XX века и сделать акцент на реализм. Администрация Академии художеств запретила ему читать лекции об иконах, импрессионистах и авангарде… В 1935 году Пунин вновь арестован. На этот раз вместе со Львом Гумилевым, сыном Анны и Николая. Ахматова немедленно выехала в Москву и по совету друзей написала письмо Сталину, с просьбой вернуть ей мужа и сына.
Следственное дело прекратили, и Пунин сделал в дневнике такую запись: «Был в тюрьме. Ан. написала Сталину, Сталин велел выпустить. Это было осенью. Любовь осела, замутилась, но не ушла. Скучаю об Ан. со знакомым чувством боли… От боли хочется выворотить всю грудную клетку…».
Николай Николаевич вернулся к прежней жизни и законной супруге, защитил диссертацию и возглавил кафедру западноевропейского искусства Института живописи, скульптуры и архитектуры. Ученики его боготворили…
Во время войны Ахматову направили в эвакуацию в Ташкент, а ученого с семьей – в Самарканд. Он приезжал в гости к Ахматовой и провел у нее «восемь тихих дней». Ранее Анна Андреевна называла любимого «Котий». Теперь Пунин подписывает свои письма к ней «бывший Котий».
Травля и гибель
После войны Ахматову принимают в Ленинграде как Большого поэта. Ее приглашают в президиумы и встречают аплодисментами. Казалось, черные дни миновали. Но среди «коллег-писателей» и в руководстве страны были те, кто Ахматову ненавидел. В августе 1946 года секретарь ЦК ВКП(б) по идеологии Андрей Жданов на собрании в Смольном обрушился на поэтессу с критикой: «поэзия взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной». Союз писателей СССР исключил Ахматову из своих рядов, ее совсем перестали печатать.
Сгущались тучи и над головой Пунина. В это время он выступает с докладом «Импрессионизм и проблемы картины», где утверждает, что художник должен слушать только себя, а картина – это «совокупность переживаний» творца. Докладчика, выступившего против догматов соцреализма, объявили ярым оппозиционером. Началась травля на собраниях и в печати. «Пунин открыто пропагандирует декаданс, развращенное упадочное искусство Запада и таких его представителей, как Сезанн, Ван Гог и другие. Этих крайних формалистов космополитствующий Пунин называет гениальными, великими художниками», – писала «Ленинградская правда».
В 1948-м его освободили от должности профессора кафедры истории всеобщего искусства ЛГУ «как не обеспечившего идейно-политического воспитания студенчества». В августе 1949 года последовал третий арест и приговор: 10 лет лагерей за «террористические намерения».
Интинский Минлаг был сущим адом, погубившим 64-летнего профессора. 21 августа 1953 года он умер в лагерной больнице поселка Абезь.

Жизнь продолжается
Н. Пунин – основатель уникальной династии искусствоведов. Его дочь Ирина Пунина была кандидатом искусствоведения и подготовила несколько поколений архитекторов, искусствоведов и культурологов. Внучка Анна Каминская многие годы работала в Эрмитаже, одна из активных создателей экспозиции в Меншиковском дворце в Петербурге и открытия музея Ахматовой в Фонтанном доме.
Вместе с сыном Николаем Зыковым Анна Генриховна приезжала в Абезь. На могиле Пунина тогда был установлен памятник, а возле нее рассыпаны морские ракушки. «Их Николай Николаевич сам привез с моря, которое очень любил», – пояснила она. Внучка ученого ушла из жизни в 2022-м. Николай Зыков ныне является главным хранителем отдела западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа.
Кстати
Николай Пунин о Кандинском: «Я не только верю в совершенную и глубокую серьезность этого мастера, но верю и тому, что этот человек обладает талантом… Великая заслуга Кандинского в том, что он ушел от живописи сюжетной; очень еще многие не сделали и этого шага».
Елена Шелест.