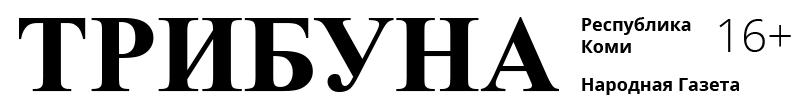Большинство пассажиров комфортабельных поездов, следующих в Воркуту или из Воркуты, вряд ли догадываются, какой ценой была оплачена железная дорога, ведущая в заполярный город от узловой станции Котлас. Счет идет не только на рубли, но и на жизни десятков тысяч заключенных, похороненных в братских могилах на протяжении всей трассы.
О том, как и в каких нечеловеческих условиях возводилась железнодорожная магистраль, рассказал на лекции в Револьт-центре историк Игорь Сажин.

Лежневое начало
Интерес к строительству железных дорог к природным богатствам Коми края возник у большевиков еще в годы гражданской войны. Красная армия остро нуждалась в нефти, а Баку, основной ее источник, находился вне зоны влияния новой власти. Оставался другой ресурс – возле реки Ухты, где еще во второй половине XIX века были пробурены первые скважины.
Однако в тех условиях о строительстве дороги по северным необжитым местам и болотам можно было только мечтать. Поэтому к воплощению амбициозного плана приступили только в 1929 году, когда на месте впадения ручья Чибью в Ухту высадилась экспедиция ОГПУ, положив начало промышленному освоению северной нефти. Тогда же на правом берегу реки Вымь выгрузилась еще одна группа заключенных для строительства лежневки (дороги из настланных бревен) до нефтепромыслов. Таким образом было положено начало будущей магистрали.
В Коми крае столетиями основными транспортными артериями служили реки Печора и Вычегда, но они не соединялись друг с другом. Лежневый тракт, идущий от Княжпогоста, был призван их связать.
В эти же годы возле реки Воркута геолог Георгий Чернов открыл крупнейшее месторождение каменного угля. И возникла необходимость протянуть дорогу за Полярный круг.

Злоключения на неугомонной реке
Первая шахта в Воркуте, возведенная силами заключенных, дала уголь в 1932 году, а вот вывозить его начали лишь спустя два года. Все это время столь необходимое стране полезное ископаемое просто складировали рядом с шахтой. Были, правда, попытки сплавлять уголь на лодках по Воркуте, но неугомонная река разбила почти все жалкие посудины. Весь уголь ушел на дно.
И вот тогда началось строительство первой в Коми крае железной дороги длиной в 64 километра от воркутинского поселка Рудник до устья Воркуты. Это была узкоколейка, позволившая вывозить уголь сначала до Нарьян-Мара, чтобы затем по Баренцеву и Белому морям, а также Северной Двине доставлять его в центральные регионы СССР. Но при такой логистике «черное золото» становилось золотым уже не по ценности, а себестоимости.
Между тем потребность в угле и нефти в связи с ускоренными темпами индустриализации возрастала с каждым годом. И тогда Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О промышленном развитии Ухты, Печоры и Воркуты», согласно которому предполагалось построить железные дороги с нормальной колеей от Рудника до села Усть-Уса протяженностью 450 км и от села Усть-Вымь до ручья Чибью длиной в 275 км.
Первую строили до тех пор, пока не поняли, что возить уголь таким кружным путем – дело накладное. И ее забросили. А вот вторую дорогу в следующем, 1937 году решили довести через Ухту и Печору до Воркуты. Так начиналась грандиозная магистраль, растянувшаяся на более чем полторы тысячи километров. Мало того, от нее предполагалось провести ответвления от Ухты до Архангельска, до Мезени и до Молотова (Перми), от Печоры до Свердловска, а от Воркуты до поселка Хабарово на Югорском полуострове Северного Ледовитого океана. До Сыктывкара планировали построить ветку от Шиеса.
Выполнить столь величественную задачу должны были заключенные Севжелдорлага и созданного чуть позже Печоржелдорлага (он же Печорлаг).

«Бараки не строить»
В знаменитом некрасовском стихотворении «Железная дорога» есть такие знаменательные строчки: «Мы надрывались под зноем, под холодом, с вечно согнутой спиной, жили в землянках, боролися с голодом, мерзли и мокли, болели цингой».
Так поэт описывал положение строителей Николаевской железной дороги, связавшей две российские столицы. Заключенным, возводившим Печорскую магистраль, пришлось куда как хуже. На всем ее протяжении и климат жестче, и природа суровей – сплошные леса, глубокие болота, промерзание почвы зимой до 1,4 метра и полное отсутствие дорог, а ближе к Воркуте – продуваемая всеми ветрами тундра. При этом бытовые условия ничуть не лучше.
В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын приводит такой факт: «Осенью 1941 года Печоржеллаг имел списочный состав 50 тысяч заключенных, а весной 1942 года – 10 тысяч. За это время никуда не был отправлен ни один этап. Куда ушли сорок тысяч?» Ответ на этот в общем-то риторический вопрос дал в одной из статей мартиролога «Покаяние» историк Олег Азаров, опираясь на документы и воспоминания очевидцев.
В самом начале 1940 года возглавивший Печоржелдорлаг Григорий Большаков заявил, что бараков для заключенных строить не будем, трассу пройдем в палатках и землянках. Надо, мол, форсировать объемы основных строительных работ – рубить просеки, отсыпать насыпи, разрабатывать выемки. Рабочий день длился 10-12 часов, летом строителей мучала мошкара, зимой – лютый холод. Плюс постоянное недоедание. Понятно, что цинга и простуды косили людей, как траву. И, как результат, никакого «форсирования» не получилось. План 1940 года был сорван, Большакова и еще нескольких начальников отдали под суд. Глава Печоржелдорлага был осужден на 15 лет лагерей, остальных приговорили к 10 годам лишения свободы.

Болотные утопления
С началом войны Печорский угольный бассейн приобрел стратегическое значение. Осенью 1941 года немцы заняли Донбасс, в результате были потеряны 60 процентов производственных мощностей угледобывающих предприятий. Шахтам Воркуты и Инты, а также Печорской железной дороге предстояло восполнить пробел.
Дорогу пришлось строить по временной схеме, обходя естественные преграды и труднопроходимые места. Самым сложным участком стали интинские болота. Грунт из карьера приходилось возить вертолетами. Но бывали случаи, когда отсыпанное днем полотно на следующее утро исчезало в болоте. Однажды вместе с насыпью и рельсами засосало паровоз с несколькими платформами. Поднять всю эту махину не удалось, а потому весь состав так и оставили под землей, а рядом сделали обход.
Шпалы вынужденно расходовали в два-три раза меньше нормы, и расстояния между ними достигали двух метров. Рельсы привозили из Карелии и Дальнего Востока, для чего пришлось в тех краях законсервировать все транспортное строительство. Некоторые были еще старинного демидовского производства. Не хватало металла, а потому многие мосты возводили из дерева. По весне их запросто мог снести ледоход. И тогда в километре от моста возводили бетонные заграждения от льда.
Приехавшая принимать дорогу комиссия пришла в ужас. С каждым проездом паровоза железнодорожное полотно деформировалось. Более того, дорога сама по себе разрушалась от сильных дождей и морозов, а потому вдоль нее пришлось расставлять специальные бригады, следившие за состоянием рельс и шпал и восстанавливающие их после каждой деформации.
Но как бы то ни было, 28 декабря 1941 года в Воркуту прибыл первый поезд. Назад он отправился с двумя платформами, груженными углем, и несколькими вагончиками с подарками для красноармейцев. Двигался этот небольшой состав со скоростью четыре-пять километров в час. По рассказам очевидцев, на паровозе сидели несколько человек с кольями. Как только поезд достигал опасных участков, они втыкали эти колья в землю, не давая паровозу упасть.
С самого начала 1942 года дорогу стали доводить до ума – пропихивали шпалы и досыпали насыпи. Этим занимались не только заключенные, но и прибывшие из разных регионов страны спецпоселенцы и трудармейцы. Комиссия с большим трудом приняла ее только в августе. Но лишь к 1946 году возвели постоянные мосты. Министерству путей сообщения Печорскую магистраль передали 1 мая 1953 года.
Всего строительством этой дороги с 1929 по 1953 годы занималось около 320 тысяч заключенных, не считая трудармейцев и спецпоселенцев. Из них, только по официальным данным, 34 тысячи скончались от голода, холода и невыносимых условий труда.

P.S. __________________________________________________________________________-
До самого синего моря
Дорогу к Северному Ледовитому океану возводили добровольцы из числа заключенных
 Запланированные ответвления от Ухты и Печоры, а также ветку Шиес – Сыктывкар строить даже не начинали. А вот продлением Печорской магистрали до океана занялись во второй половине сороковых годов.
Запланированные ответвления от Ухты и Печоры, а также ветку Шиес – Сыктывкар строить даже не начинали. А вот продлением Печорской магистрали до океана занялись во второй половине сороковых годов.
Как пишет Олег Азаров, в самом конце Великой Отечественной войны ученые Арктического НИИ заявили о необходимости «скорейшего создания в одном из районов полярного побережья Сибири крупной промежуточной базы морских коммуникаций». Новый морской порт предполагалось использовать как базу для размещения основных сил Северного военно-морского флота. В 1947 году Совмин СССР принял секретное постановление, предусматривающее строительство на Каменном мысу Обской губы крупного морского порта и прокладку к нему железной дороги.
Строителей набирали по всей стране из числа… заключенных добровольцев. Зэкам, изъявившим желание поехать на Крайний Север, обещали, что при выполнении или перевыполнении нормы день засчитывают за полтора, а то и за два. Срок можно сократить на треть или даже вдвое. А потому нашлось немало желающих.
Когда к концу 1948 года возвели железнодорожную ветку Чум – Лабытнанги, а у Каменного Мыса полным ходом шла подготовка к сооружению морского порта, специалисты НИИ «Арктикпроект» вынесли приговор: этот район непригоден для масштабного строительства. Грунт не выдержит крупные промышленные постройки, а морские суда с глубокой осадкой не смогут близко подойти к берегу из-за малой глубины.
Тогда решили создать северную морскую базу в Игарке, а железную дорогу – проводить на восток, вдоль побережья Северного Ледовитого океана от Салехарда в абсолютно безлюдных просторах в условиях вечной мерзлоты.
По зимним дорогам, пробитым в снегах бульдозерами, начали завозить технику, стройматериалы и заключенных. К весне 1953 года возвели около семисот километров магистрали на западном и восточном участках. На отдельных отрезках уже ходили пассажирские поезда. Осталось достроить центральную часть, но после смерти Сталина стройку остановили, а в 1954 году официально ликвидировали. Останки брошенной техники и строительных материалов до сих пор лежат сильно покореженные в вечной мерзлоте.
Игорь БОБРАКОВ.